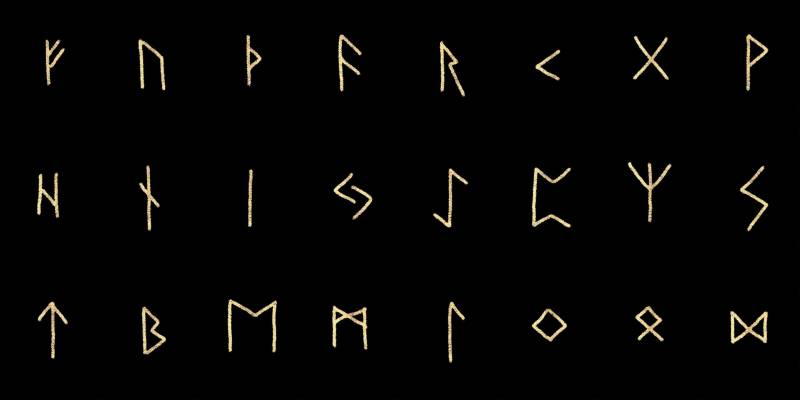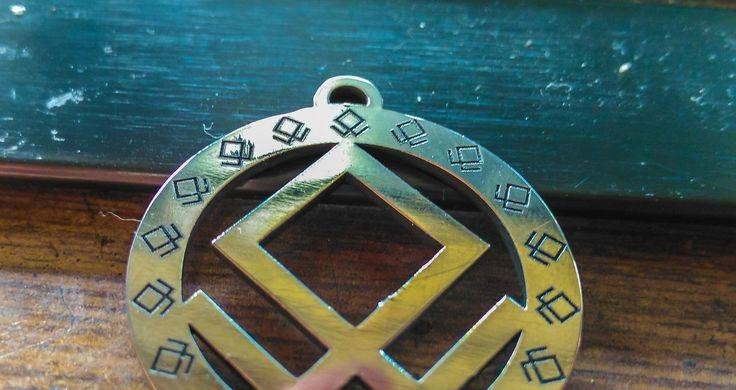Саммит «США – Центральная Азия». Не самые простые итоги для России за вроде бы малозначащим фасадом

6 ноября в Вашингтоне состоялся 2-й саммит на уровне лидеров «США-Центральная Азия» в ставшем уже традиционном для соседей России формате «С5+1». «С5»+ предполагает, что на внешнеполитических переговорах все страны центральноазиатской «пятерки» выступают совместно. Идея насчет «Группы пяти» изначально принадлежала Туркменистану, прошла определенную историю и оказалась в итоге вполне рабочей, поскольку с ее помощью оказалось проще и плодотворней добывать инвестиции из различных «центров силы».
«С5+» это внешняя политика, но формат предполагает и внутрирегиональные дискуссии, которые, впрочем, носят консультативный характер. Это полностью устраивает, в частности, Туркменистан, который свой внеблоковый и вообще нейтральный (в самом широком смысле) статус делает одним из оснований в выстраивании своей стратегии.
То, как на саммите выступили президенты Узбекистана и Казахстана, которые в похвалах и здравицах Д. Трампу показали просто-таки мастер-класс, конечно же, разошлось по всем отечественным медиа-площадкам и сетям. Можно было бы и в данном случае сделать остановку на столь «сочных» цитатах за авторством представителей стран, которые у нас числятся то ли в союзниках, то ли в близком кругу почти союзников-партнеров, но это все уже сделано, и неоднократно.
Их (цитаты) надо все-таки разбирать в контексте событий, причем не одного года, проблема же в том, что данный саммит неформально завершает своего рода «эпоху ЕАЭС» с его идеями (как здравыми и рациональными, так и зачастую иллюзорными) и наработками. Понятно, что формально все останется почти по-прежнему, но неформально отношения перешли некую черту, за которой неизбежна трансформация. В какую сторону она будет происходить, тут порассуждать как минимум небезынтересно.
О здравицах и источниках их финансирования
Несомненно, что славословия в адрес американского лидера достигли весьма высокой отметки, однако выступления в целом, если рассудить здраво, являются вполне адекватными в плане точечного давления на чувствительные места нарциссичного Д. Трампа. То, что он ни много ни мало, а «государственный деятель, посланный свыше», относилось к американской аудитории, ведь не секрет, что после чудесного спасения Д. Трампа при покушении на него, тема его избранности остается одной из обсуждаемых для его сторонников. Да, их число сейчас снизилось, но в целом оно остается весьма значительным. Ведь свыше его избрали, чтобы «вернуть здравый смысл и традиционные ценности... обратно в политику США, внутреннюю и внешнюю». Все в общем-то логично, хоть и высоким стилем.
Ш. Мирзиеев восхвалял Д. Трампа как великого миротворца, остановившего восемь войн. Но собственно и у Д. Трампа, недавно дававшего интервью американским СМИ, даже была справка из Государственного департамента США, в которой было написано, что да — все восемь войн он действительно остановил. Раз и справка есть, то что спорить, восемь или две — восемь, конечно.
То, что Москву такими «восточными сладостями» соседи на саммитах откровенно не балуют, определяется ровно тем форматом, который в отношениях на постсоветском пространстве был задан нами же и задан довольно давно. Первый его постулат — «мы не вмешиваемся во внутренние дела», второй — «равенство, инклюзивность и транспарентность». США никогда не придерживались, не собирались и не собираются придерживаться ни первого, ни второго постулата, что при Д. Трампе, что при его предшественниках, какие бы декларации там ни произносились.
В конкуренции за регион (а у нас периодически вспоминают, что за него надо-таки конкурировать) с ЕС, США и аравийскими странами такой формат в Москве рассматривался как однозначное преимущество. В теории оно, по всей видимости, так и есть, но на практике дает, как минимум, кисловатую оскомину, когда Узбекистан, существенная часть доходов которого базируется на трудовой (и не только) миграции в России, обещает инвестиции в США на 100-135 млрд долл., Казахстан, львиная доля сырья которого (и не только) идет через Россию, не дает Москве приоритетов в разработке важных элементов и периодически очень уж последовательно работает по теме санкций. Киргизия (Кыргызстан) откровенно смотрит если не на США, то на Великобританию, что-то выговаривает в адрес Москвы Таджикистан, и только Туркмения, нейтральная ко всему, здесь стоит особняком, но и у Ашхабада стоит жестко и остро вопрос дальнейшего развития своего нефтегазового комплекса.
США не строят в Центральной Азии школ и театров, не дают скидок и преференций на вооружение, не предоставляют трудовым (и нет только) мигрантам социальные льготы и послабления в получении гражданства. Собственно, США практически ничего в регион не вкладывали годами. Поэтому такие демонстративные жесты выглядят в России, скажем весьма и весьма мягко, «неоднозначно». Понятно, что у нас автоматически задаются вопросом, почему такие инвестиции не в Россию? Но какова норма реальной прибыли при текущей отечественной экономической политике? А потом снова надо посмотреть на первый постулат, приведенный выше.
Если в России так оживленно и с подъемом воспринимают как бы нормализацию как бы отношений с США, а до последнего времени в московских гостиных прямо-таки витал «дух Анкориджа», что если у нас все так равноправно и инклюзивно, то что такого, если и у Центральной Азии будет свой дух, например, «дух Вашингтона»?
Однако не только России стоит озаботиться этими демонстрациями — мы на третьем месте в регионе по накопленным инвестициям. Номер второй — это Китай, а номер первый — Евросоюз. Собственно, не только от трудовой миграции, транзита и общего рынка с Москвой берут для Д. Трампа средства новые инвесторы, они их берут еще и от работы с Китаем и Европой. Впрочем, от аравийских монархий сейчас тоже сформировался неплохой финансовый поток. Детали этих инвестиционных перетоков и притоков неоднократно и в подробностях разбирались ранее автором на ВО, в данном же случае следует подчеркнуть, что реверансы в сторону США обеспечены не только российской, но и китайской, европейской и аравийской инвестиционной активностью.
О контексте
За высоким стилем Узбекистана и Казахстана как-то потерялись в медиа слова других лидеров региона. Между тем они говорили намного скромнее, но некоторые нюансы были бы небезынтересны. В частности, глава Киргизии действительно очень скромно посетовал на то, что у республики все не так «богато» в плане природных ресурсов, как у соседей, зато отношения с США в Ай-Ти сфере развиваются семимильными шагами, а в плане криптовалют идеи Д. Трампа — это прорыв в будущее, которое в Бишкеке будут приближать всеми силами.
Так ли уж обделена Киргизия природными богатствами? На самом деле нет, не обделена. Есть золото, угли, медь, вольфрам, руды с извлекаемыми и популярными ныне «редкоземами»: неодим, иттрий, тербий и т. д. Но Д. Трампу лучше все-таки сказать про прорывы и перспективы в Ай-Ти и крипте — иначе что сказать британским инвесторам, которых представители Бишкека посещают уже не первый год в том числе в плане работы с одной из самых одиозных финансовых семейных корпораций.
Это очень занятный нюанс, который неплохо показывает, как непросто региону качаться на специфических качелях между западом, востоком, югом, севером, а теперь еще и отдельной частью Запада в лице трамповских США. При этом логика инвестиций того же Узбекистана в США, как и грандиозные планы закупок, во многом напоминают логику его аравийских партнеров. Аравийские монархии уже в целом освоились со спецификой Д. Трампа.
Так, еще в его первую каденцию были как бы заключены грандиозные «сделки» под 400 млрд долл., а где они? Ну собственно и там, где и новые сделки уже на триллионы. Зато европейским финансистам тут сразу дается возможность предметно поразмыслить о том, откуда из каких активов аравийские фонды возьмут хотя бы некоторую часть этих средств, чтобы поддержать аппетиты Д. Трампа. Не из европейских ли активов?
Аравийских ресурсов, чтобы так прямо оказывать давление на Брюссель, у стран Центральной Азии нет, но попробовать «простимулировать» их эти демонстрации способны вполне. В конце концов, не Брюссель ли обещает региону проекты из пула «Global Gate» с его номинальным бюджетом в 300 млрд евро?
Тема миротворчества очень напоминает недавнюю историю между Азербайджаном и Арменией, когда т. н. «Зангезурский коридор», по сути уже согласованный между Ереваном и Баку, был «верифицирован» в Белом Доме и назван аж «коридором Трампа». Все это давление на определенные рычаги, которые для Д. Трампа являются важными и маркерными в плане его собственных оценок своей же внешней политики и его видения того, как ее ощущает его же собственный избиратель.
Качаться на этих качелях действительно не просто. Тут можно вспомнить еще один пример, как в Центральной Азии довольно бодро положили гирьку уже на брюссельские весы, поддержав откровенно антитурецкую резолюцию по Северному Кипру.
Туркмения и Таджикистан заинтересованы не только в американских инвестициях или шире особом покровительстве. И Душанбе, и Ашхабаду важно понимать, какие планы у Вашингтона при Д. Трампе имеются относительно Афганистана. Для Туркмении, которая тянет проекты по энергетике в Афганистан, это стратегический приоритет, для обеих стран это вопрос безопасности. Не стоит списывать со счетов и то обстоятельство, что такие одиозные американские структуры, как USAID, а также такие специфические фонды, как «Фонд Ага-Хана», немало палок в колеса и довольно системно вставляли и Ашхабаду, и Душанбе. Что планирует делать в этом плане Д. Трамп, знает сейчас только он сам. Впрочем, не исключено, что на этот счет он и не знает и даже еще не думал.
Все это накладывается на тот простой факт, что системно и планово США Центральной Азией по сути не занимались годами. Речь идет не о традиционной политике тех же NED или USAID, а о полноценной проектной работе. Если в мозговых недрах там еще до Д. Трампа как-то развивались проектные схемы вроде индо-аравийского блока за авторством того же Дж. Салливана, и под это была своя логика действий, то у команды Д. Трампа пока все напоминает не стратегические проекты, а частные локальные схемы, и Индия тут неплохой пример.
США и о принципе «застолбить поляну»
Д. Трамп с командой рулит политикой США уже почти год, и некоторые принципы и основные аспекты его политической линии прослеживаются вполне отчетливо. Помимо специфической тяги к миротворчеству, давнем для самого Д. Трампа желании контролировать «больше нефти» — это все описано еще до его первого президентского срока, и тут он верен себе — характерной особенностью его действий является следование принципу «застолбить поляну».
Выражение просторечное, но неплохо характеризует цели и задачи. У администрации Д. Трампа, очевидно, нет стратегической цели в виде поддержки Украины в том виде и в том разрезе, как это виделось его предшественникам. Продавать вооружение европейцам и вести переговоры с Москвой для укрощения той же Европы — это часть вопроса. Другая же часть заключается в том, что один из основных мировых рынков — рынок ЕС — должен работать на США, но европейские группы (каждая по-своему) видят на месте Украины элемент собственной логистической и сырьевой конструкции. Собираются ли США в действительности разрабатывать редкоземы на Украине? Пока это сомнительно, но несомненно другое — США соглашениями, которые Киев заключал под жестким давлением, огораживают себе место на поле, где бьются европейцы и россияне. Делайте что хотите, но здесь есть наша доля — в этом базовый посыл США.
Армения и Азербайджан — трамповские США не сделали там по сути ничего, тем не менее оставлять это поле как внешнеполитическое ристалище между Брюсселем, Турцией, Москвой и Ираном в Вашингтоне совершенно не намерены. Делайте пока что хотите, но все должны знать, что тут есть доля США.
С Центральной Азией мы видим аналогичную схему, где Брюсселю, Москве и Пекину недвусмысленно показывают, что на этом поле есть теперь еще американский огороженный участок. При этом никаких системных и проектных решений у США нет (или пока нет). Просто везде строится «заимка», на которую можно вернуться и с которой можно вмешаться в те или иные процессы.
Как и у монеты, где есть аверс и реверс, у такой политики Вашингтона имеются преимущества и существенные недостатки. Преимущество в наличии того самого огороженного поля. Недостатки в том, что планов и проектов по его освоению нет. Это плацдарм, откуда можно действовать по ситуации, но необорудованный под системные задачи. И ведь в Центральной Азии реагируют на это в общем-то соответственно. Вот зачем региону заключать т. н. «Соглашения Авраама»?
Авраамовы соглашения — это идея первой администрации Д. Трампа, суть которых в том, что африканские и аравийские страны нормализуют отношения с Израилем, но в основе тогда лежал «план Кушнера» с его задумкой о выкупе палестинских земель. Они родились порознь, но в итоге как бы поддерживали друг друга. План провалился полностью, а соглашения Авраама заключили Бахрейн и ОАЭ (из аравийских монархий). При демократах тема соглашений Авраама была творчески переработана и превращена в интересный проект индо-аравийского блока или Третьего полюса, где аравийские финансы, индийские ресурсы и американские технологии формировали бы новый экономический технологический кластер. В обмен на нормализацию с Израилем, конечно. Ради этого команда Дж. Салливана шла на уступки в Йемене и даже чего-то добилась, другое дело, что буксовали отношения уже с Саудовской Аравией.
Для Д. Трампа соглашения Авраама — это его личный проект, а вот индо-аравийский блок — нечто невразумительное, чужое, и вообще Индия плохо себя ведет в плане тарифов. Но для Центральной Азии вообще никакого смысла в соглашениях Авраама нет. Есть даже проблема в том, что часть арабских инвесторов эту тему не поддерживает. Но собственно в том и вопрос, что номинальный характер нынешних соглашений соответствует номинальному характеру присоединения к ним стран региона. Это маркер того, что Д. Трамп застолбил место на поле.
Огороженное поле — это еще не проект, не стратегия, но вполне весомый аргумент, чтобы США везде могли потребовать «свою долю». Хотите развивать «Срединный коридор», через Каспий и Кавказ, Турцию и Украину — касса, куда внести долю США, в соседнем кабинете.
Для России
Все вышеизложенное, на первый взгляд, не очень вяжется с тяжеловесным тезисом в начале материала, где говорится о черте для проекта ЕАЭС и его неизбежной трансформации. Внешне все так и выглядит — куда ни посмотри, все вроде бы номинальное, декларативное. Тем не менее есть существенный нюанс.
Фактически до самого последнего момента США были вне региональной игры. Они вышли (телепортировались) из Афганистана, почти забыли про Пакистан, не трогали Иран, а Индией занимались в рамках индо-аравийского проекта. Сейчас в Иране США в активной позиции, и мало кто сомневается в том, что иранская темная игра для США закончилась одной военной акцией. Доля на поле априори предполагает участие в тех или иных процессах, а торг по Афганистану в Белом Доме еще даже не начинали, активизировались переговоры по Афганистану и Пакистану. Это не торг, но подготовка к нему. И чем же не девятая война, которую остановит грудью сам Д. Трамп, как не афгано-пакистанский конфликт, который никуда не девался, наоборот, вспышки там и чаще, и ярче.
Обойти долевые барьеры трамповских США страны Центральной Азии не смогут, да, собственно, и не будут стараться этого делать. Ведь это почти идеальный рычаг в работе с традиционными центрами, между которыми они балансируют. Но именно такой специфический характер политики «в долях» потребует от традиционных центров, к которым относится и Москва... обсуждения тех самых долей с США. Впрочем, не только и не столько к нам это относится, но и к Китаю, и ЕС.
Но ни с тем, ни с другим центром у региона нет столь необычных постулатов в политике вроде равенства, невмешательства, инклюзивности. Номинально их декларируют все, фактически не исполняет никто, кроме самой России. Ввод в игру США даже с их политикой огораживания поля означает, что у Запада для региона теперь не один центр в Брюсселе и гранты от демократических фондов — крайне русофобских, но все же ограниченных, а западных центров полноценно уже два.
Вроде бы США в регионе должны конкурировать с Пекином, частью блокируя Брюссель и европейские проекты, но куда деть итоги встречи США и Китая в Южной Корее и тот момент, на который нечасто обращали внимание — заявление Д. Трампа о формате Джи-2? Это вообще-то конкуренция при стратегическом сосуществовании, но никак не экзистенциальный конфликт и военная или военно-экономическая «рубка» этих гигантов. И вот если Пекин и Брюссель посещают американскую кассу, внося доли или даже внося их частями и в рассрочку, то с гирями на своей чаше весов у России все становится довольно сложно. При нашем постулировании в отношениях это автоматически означает уступки и затраты, затраты и уступки.
В нынешней реальности мы и так их делаем немало, пытаясь сохранить «единое экономическое пространство». У части аналитиков и обозревателей это зачастую вызывает недоумение, но то, что недоумевающие воспринимают как слабость, на самом деле изначально рассматривалось и закладывалось в модель ЕАЭС как ее базовое преимущество. Если эта модель работает в рамках конкуренции с другими примерно равными моделями, то теоретически (изменение подходов) это преимущество можно было бы реализовать, хотя Китай давил в регионе очень плотно и системно, но если перед ней конкуренция с тремя другими, которые работают синергично, то преимущество обращается в бесконечную уступку. Добавим сюда фактор аравийских финансов и турецкий фактор.
Формальный отказ от ЕАЭС —это слишком болезненная тема, чтобы ее взялись предметно обсуждать в виде плана действий или т. п., но и отрицать, что базовые условия изменились, и существенно, также не имеет смысла. В этом плане трансформация этого «экономического пространства» по сути неизбежна, и тут лучше этот процесс возглавить, пусть и не меняя название на фасаде, чем постоянно реагировать.
- Михаил Николаевский
Обсудим?